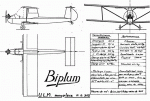_Описание конструкции сверхлёгкого мотопланера «Коршун»
На первоначальном этапе создания конструкция «Коршуна» немногим отличалась от БРО-11 и по внешнему виду и по применяемым конструкционным материалам. Основное отличие заключалось в передней части фюзеляжа: вместо фанерной лыжи появился пилон- мощьная трёхлучевая балка, служившая ,одновременно ,и посадочной лыжей, и местом для сидения пилота, и местом для крепления двигателя , ну и, конечно, для крепления крыла. Другим способом на БРОшку установить двигатель невозможно.
Почему двигатель оказался под крылом? Простая, похожая на тысячи других, история.
Группе студентов авиационного института захотелось ещё и летать, что в рамки учебной программы института не входило. Решено было самим построить что-либо летающее. А надо сказать, что призрак дельтапланеризма в те годы, ещё только приближался к границам Советского Союза. Поэтому решено было построить самое простое, что было на тот момент – БРОшку. Благо дело коллектив подобрался – сплошь авиамоделисты, т.е.
грубо говоря, руки им сидеть не мешали. И они построили БРОшку, и научились на ней подлётывать с невысоких холмов. Когда-же из БРОшки уже больше ничего выжать было нельзя, ребята заскучали. Душа просила высоты. Буксируя планер за мотоциклом высоко не подымешься. Тогда и завязла в головах идея – установить на планер двигатель. Какой?
Ну конечно же тракторный пускач ПД-10, как это делала вся страна. Так появился пилон и двигатель «Колибри». На случай неудачи, чтобы не портить планер, двигатель решили разместить в центре тяжести. А главное, двигатель любой массы не требует конструктивных изменений аппарата, а снял его, так и летай снова на планере! Так мотор оказался под крылом и стал виновником всех недостатков и преимуществ этой машины. Началась эра моторных полётов.
Моторные полёты выявили кучу недостатков конструкции планера. БРОшка с мотором оказалась очень норовистой: на разбеге она раскачивалась как пресспапье с хвоста на нос,; совершенно не управлялась по курсу; то и дело заваливалась на крыло с повреждением законцовки, и, вскоре, в группе не осталось ни одного «пилота», кто не умудрился бы поставить её поставить на нос, т.е. скапотировать. Явно недоставало мощности двигателя. На доработки ушёл год-другой. БРОШке удлинили нос и лыжу сделали более пологой; хвостовую ферму развили вниз, увеличили площадь РН и пристроили хвостовую опору – костыль. Вместо одного подкоса с тросовой растяжкой на нос кабины установили два трубчатых подкоса от лыжи в одну точку на лонжероне крыла. Более мощного двигателя не было, поэтому увеличили размах крыла, а заодно и площадь стабилизатора. Так появилась классическая схема «Коршуна». Примерно в таком виде и предстаёт он перед нами сегодня. Разумеется, в связи с возросшей массой аппарата были пересчитаны на прочность и соответственно усилены полки лонжеронов несущих поверхностей , а также
усилены многие детали. Новые конструкторские решения подсказывала практика полётов.
На тысячах мелочей я просто не останавливаюсь. Летали за 100 км. От базы – не наездиешься, поэтому все ремонты, а поломки были часто, происходили в полевых условиях. Высокая ремонтопригодность в полевых условиях – одно из замечательных свойств «Коршуна». С гордостью отмечу, что ни одна самоделка в 70-е годы прошлого века не имела такого налёта, как Харьковский «Коршун». Во первых потому, что мы были изгоями и летать было просто запрещено. Мы боялись, но летали всё равно. Во вторых потому, что во время лётного сезона «Коршун» находился на земле только для заправки или ремонта. Представьте: 20 человек на «сундук мертвеца» и все хотят летать, а к концу сезона каждый из них привозил по 4-6 часов налёта на «Коршуне». Для самодельного деревянного самолёта в конце 70-х – это очень недурно.
.
На первоначальном этапе создания конструкция «Коршуна» немногим отличалась от БРО-11 и по внешнему виду и по применяемым конструкционным материалам. Основное отличие заключалось в передней части фюзеляжа: вместо фанерной лыжи появился пилон- мощьная трёхлучевая балка, служившая ,одновременно ,и посадочной лыжей, и местом для сидения пилота, и местом для крепления двигателя , ну и, конечно, для крепления крыла. Другим способом на БРОшку установить двигатель невозможно.
Почему двигатель оказался под крылом? Простая, похожая на тысячи других, история.
Группе студентов авиационного института захотелось ещё и летать, что в рамки учебной программы института не входило. Решено было самим построить что-либо летающее. А надо сказать, что призрак дельтапланеризма в те годы, ещё только приближался к границам Советского Союза. Поэтому решено было построить самое простое, что было на тот момент – БРОшку. Благо дело коллектив подобрался – сплошь авиамоделисты, т.е.
грубо говоря, руки им сидеть не мешали. И они построили БРОшку, и научились на ней подлётывать с невысоких холмов. Когда-же из БРОшки уже больше ничего выжать было нельзя, ребята заскучали. Душа просила высоты. Буксируя планер за мотоциклом высоко не подымешься. Тогда и завязла в головах идея – установить на планер двигатель. Какой?
Ну конечно же тракторный пускач ПД-10, как это делала вся страна. Так появился пилон и двигатель «Колибри». На случай неудачи, чтобы не портить планер, двигатель решили разместить в центре тяжести. А главное, двигатель любой массы не требует конструктивных изменений аппарата, а снял его, так и летай снова на планере! Так мотор оказался под крылом и стал виновником всех недостатков и преимуществ этой машины. Началась эра моторных полётов.
Моторные полёты выявили кучу недостатков конструкции планера. БРОшка с мотором оказалась очень норовистой: на разбеге она раскачивалась как пресспапье с хвоста на нос,; совершенно не управлялась по курсу; то и дело заваливалась на крыло с повреждением законцовки, и, вскоре, в группе не осталось ни одного «пилота», кто не умудрился бы поставить её поставить на нос, т.е. скапотировать. Явно недоставало мощности двигателя. На доработки ушёл год-другой. БРОШке удлинили нос и лыжу сделали более пологой; хвостовую ферму развили вниз, увеличили площадь РН и пристроили хвостовую опору – костыль. Вместо одного подкоса с тросовой растяжкой на нос кабины установили два трубчатых подкоса от лыжи в одну точку на лонжероне крыла. Более мощного двигателя не было, поэтому увеличили размах крыла, а заодно и площадь стабилизатора. Так появилась классическая схема «Коршуна». Примерно в таком виде и предстаёт он перед нами сегодня. Разумеется, в связи с возросшей массой аппарата были пересчитаны на прочность и соответственно усилены полки лонжеронов несущих поверхностей , а также
усилены многие детали. Новые конструкторские решения подсказывала практика полётов.
На тысячах мелочей я просто не останавливаюсь. Летали за 100 км. От базы – не наездиешься, поэтому все ремонты, а поломки были часто, происходили в полевых условиях. Высокая ремонтопригодность в полевых условиях – одно из замечательных свойств «Коршуна». С гордостью отмечу, что ни одна самоделка в 70-е годы прошлого века не имела такого налёта, как Харьковский «Коршун». Во первых потому, что мы были изгоями и летать было просто запрещено. Мы боялись, но летали всё равно. Во вторых потому, что во время лётного сезона «Коршун» находился на земле только для заправки или ремонта. Представьте: 20 человек на «сундук мертвеца» и все хотят летать, а к концу сезона каждый из них привозил по 4-6 часов налёта на «Коршуне». Для самодельного деревянного самолёта в конце 70-х – это очень недурно.
.